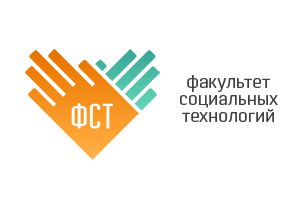Я кратко так записала, как у нас начиналась война. Что 22-го июня объявили войну, а мы школьники были ещё, закончили 9 класс. Пришли, попрощались со школой, потому что нашу школу закрывали. Рядом построили новую школу. 11-го класса ещё не было – десятилетка была. А у нас некоторые уходили после девятого класса. Шли (как вот сейчас уходят), продолжали учёбу уже по своим специальностям выбранным, так тоже можно было. Ну, мы друг с другом попрощались, договорились, что на следующий выходной… Мы в субботу попрощались, а на воскресение договорились, что мы поедем на Кировские острова. Мы договорились, что, кто ещё не разъехался (некоторых родители отправляли на дачи, в лагеря) … а нет, после 15 уже в лагеря не отправляли, только так, устраивались ребята. А я маме поставила условие. Обычно после меня ещё три брата шли, младше меня, и племянники. И обычно я была как старшая. У нас уже не было своей дачи, когда-то была под Ленинградом дача, ну а потом вырастали все. Самая главная у нас была там бабушка, бабушка умерла. Значит, перебрались уже все в город и снимали (дачу). И я уезжала с ребятишками со всеми на дачу на эту на каникулы. А тут я говорю: «Мам, (я уже паспорт получила, а паспорта нам выдавали в 16 лет), я уже получила паспорт, я пойду поработаю, хочу себе на туфли заработать». Семья у нас была большая – 10 человек ребят нас было только (5 мальчиков, 5 девочек) – и трудно было всех обуть, одеть и накормить. Но мы всегда так держались, что никогда не были бедными (вот как сейчас говорят), и, самое главное, никогда не было у нас как «неполная семья», у нас были очень хорошие родители.
Я тебе потом представлю, тут они у меня все стоят, я это называю «мой бессмертный полк». Они все участники войны, и блокады. Все до одного человека, кто стоит здесь. Здесь ещё не хватает двух моих племянников, у меня не оказалось их фотографий. Их уже нет никого, я осталась сейчас одна – представитель нашего большого рода. И я считаю, что это обязанность теперь моя – хранить память о них, и чтобы самой продолжать так, как нас воспитывали. И поэтому ничего от родителей не требовали, их родительский долг они выполняли великолепно и нас всех воспитали. Ну, не хватает (слов). Порядочность – мы себя никогда не вели… не было у нас даже в школе какой-то зависти, со всеми дружили, всё было хорошо. Но всегда я каким-то выходила зачинателем любого движения. Я всегда подхватывала это и, как Гайдар, «шагай впереди». Дружный был очень коллектив. И вот договорились, что поедем на следующий день в воскресение (22-е), что мы едем на острова и там последний день проведём. Ну а утром я почему-то не включала радио, у нас был большой чёрный репродуктор, но семья большая – может быть кто-то ещё спал.
В общем, я не включила радио, собралась, иду, там близко жила одноклассница. Прихожу к ней, она с мамой шла, такие обе хмурые. Я говорю: «Ну а ты что, не собралась что ли, что это»? Она, грубо так: «А ты что, дура»? И мама даже ей говорит: «Да что ты так с Марусей разговариваешь». Она: «Ты что не знаешь, что война»? И вот это сообщила, и мы скорее побежали (конечно, не на лодках кататься) собирать всех ребят, и все ринулись на приёмные пункты. Мы все хотели идти защищать. Мальчиков наших сразу всех взяли, приняли, даже кому не было 17-и лет – записали всех. А про нас сказали (про девочек): «Вы ещё здесь нам нужны в городе, так что вы остаётесь здесь все». И нас распределили по комсомольским организациям, были такие «трудовые комсомольские отряды». И вот мы, значит, ну старались так, нами даже руководили – наш комсорг (руководитель нашей комсомольской организации по школе), она отслеживала наше участие в этом. И нам не повезло с нашим райкомом в том, что в конце, когда война закончилась, и мы пришли в свой райком, чтобы нам выдали хоть какие-то документы, что мы работали, что мы были труженики, мы были на торфоразработках (девчонки), на лесозаготовках.
Первое, что было – это нас прикрепили к организации такой… были и не военные в гражданском ходили, но они участвовали в обороне Ленинграда все. Потому что, если говорят, что – Москва – в 30-и километрах был враг, то наш враг был уже в черте города. Они сразу (видимо, из-за большого предательства, и заранее они хоть подготовили, своих заслали сюда диверсантов) и сразу всё было. Пулково взяли враги, и Пулково открыло дорогу. Вот и сейчас я даже представляю, пока я даже готовила вот эти материалы, я думаю: «Господи, от Пулково город лежал как на ладони». Там шли линии прямо из Пулково и прямо до Дворцовой площади. Всё прямо как «катись туда», они, видимо, так и надеялись. А мы жили: такая же улица прямая, назывался «Измайловский проспект». Там когда-то стоял (ну, при царской власти) Измайловский полк, ну вот и сейчас, значит: Измайловский проспект, Измайловский собор. И поэтому мы были сразу уже на глазах у них всех. Последняя трамвайная остановка была занята уже врагом. У нас на фронт люди уезжали на трамвае. Доезжали до того места, где ещё можно было. И нас на следующий день собрали и бросили на окопы. Как раз бросили сначала под Пулково. Ну, мы работали там день, или два. И настолько это было неожиданно – война для нас для всех. То есть как неожиданно – кто-то и не верил. Я-то девчонкой была и тоже говорю: «Ой, что-то я не верю этому договору» (Риббентропа с Молотовым). Ну, так и получилось, но готовы мы к этому не были. Тем более, лето было – воинские части выезжали в лагеря, там проводили свои учения, покидали, значит, свои части, и не оказалось даже их на месте никого. Оружия тоже не было. Ещё были винтовки со времён Мировой (Первой Мировой) – это тоже отечественная война была. Но это ещё 14-й год там был – воевали. И тогда вот с этими винтовками (штыки были ещё такие для рукопашного боя) нас охраняли эти солдатики.
Мы два дня там покопали, тоже, не хватает даже лопат – ломами пробивали это всё. Только решили, что мы им сделаем здесь хоть преграду какую-то чтоб хоть танки не вошли. Противотанковые копали рвы. Но, видимо, начальство понимало, что мы ничего не спасём. Нас перебросили (наши молодёжные эти бригады) перебросили, ещё оставался у нас Ломоносов. Нас туда бросили, до Ломоносова. Ещё ходили (электричек тогда не было) такие поезда, местного значения, не дальнего следования. Нас туда привезли, и там, наверно, километров 10-15 мы шли до определённого участка, нам назначенного. Пришли туда, ну я говорю, что я иду и должна была организовать там сразу, чтобы нас поставили там на довольствие на какое-то местные там эти крестьяне, кто там был. Распорядилась, чтобы нас обеспечили теми же лопатами там всё, прихожу, а все стоят и говорят: «Нам дали команду быстренько собираться и убираться оттуда самостоятельно». Уже транспорта никакого, ничего, всё перекрыто. И мы, действительно, все эти лопаты оставили там. Кто добирался сутки, кто – двое.
Транспорта никакого, и вот такое, как сейчас я понимаю, давящее чувство, что люди (мало того, что они встревожены всем этим) и команды получались… они отдают одну команду. Допустим, понимали, что надо, если идёт враг, надо убрать хлеб, надо убрать животных, чтоб не досталось им питания, потому что город надо же кормить. Но мы то даже и не думали оставлять город. Вот наша вся семья решили, что мы до последнего будем в городе. Куда мы поедем? Нам надо город защищать свой. Я помню, когда уже возвращались в город (а возвращались на Балтийский вокзал), я к Балтийскому вокзалу подошла уже одна, никого не оставалось. Кто-то уезжал, машины брали кого-то… так получилось, что я осталась одна. Я прихожу, а уже дело к вечеру. Нас закрывали после десяти часов, запрет уже был наложен на хождение, без пропуска уже никто никуда не выходил.
Меня задержали два милиционера. Я им объясняю, что так и так, вот я возвращаюсь домой. «Какие документы есть»? А мы тогда на физкультуру ходили не в трусиках, как сейчас, или костюмах спортивных, а шили, наоборот, такие шаровары на резиночках всё. И мне мама к этим шароварам пришила карман на пуговочке, на булавочке, я уж не помню, и застёгнута была. Конечно, паспорт никто с собой не брал, а справка была, что вот мы направлены на работу туда-то, туда-то. Я говорю: «У меня справка есть». Он говорит: «Покажи». Я говорю: «А вы отвернитесь, мне нужно достать». «Ну да, – они уже шуткой говорят, – мы отвернёмся, а ты убежишь у нас». Я говорю: «Куда я побегу, у меня дом рядом»? И мне, действительно, нужно было ещё через одну улицу. Там были такие роты. Стоял полк, и ротами назывались, теперь они улицы назывались. Но всё равно, вот мы, например, жили на шестой роте, до 13 рот были, всё назывались ротами. Вот я говорю: «Мне нужно на мою улицу (роту)». Тогда они сжалились, не стали больше меня испытывать на прочность. Один из них говорит: «Знаешь, давай я всё-таки тебя доведу до дома, а то раз у тебя нет документа, тебя могут и забрать всё равно». Ну проводил, действительно, до дома. Пришла домой, дома тоже хорошего ничего. Потому что у нас родилась девочка у сестры и она (девочка) умерла даже ещё из роддома не выписавшись, и похороны состоятся ребёнка. Сестра сразу ушла. Но она не на фронт, а здесь же в городе были МПВО – это местная противовоздушная оборона. То есть всё она (сестра) военизированная была и до конца войны, до конца блокады она всё время была в армии. И у неё ещё была старшая девочка – она её отдавала на продлённые дни в детский садик, а сама была в армии. И они день работали, как мы все, кто добывал воду, кто добывал горючее. Питание нечего было добывать, потому что уже… какого числа…
Обстрел был четвёртого сентября, а шестого уже бомбили с воздуха. И, самое главное, они знали расположение всех наших продовольственных складов. Они сразу уничтожили у нас самое главное – Бадаевские склады. Они уничтожили, а там была большая часть нашего продовольствия основного. И мука, и сахар, крупы – и всё горело. Несколько дней горели эти продукты, этот сахар, стоял дым такой неприятный. А потом уже, во время блокады, люди (мы, правда, не ходили, никто), они собирали эту землю, потому что она была пропитана сахаром, запахом муки горелой, или круп каких-то, и потом промывали это всё и съедали, и даже торговали этой землёй. Были тогда у военных консервы такие в литровых банках металлических – и вот в этих банках продавали эту землю. И люди её пропускали через марлю и пили, чтобы сладкое что-то попадало в организм. Есть было, я же говорю, тем более… Поскольку нас на дачу не отправляли, у нас запасов никаких не было. Папа с мамой работали. Так же и сёстры все. И мы очень голодали. И у меня один брат ещё до этого умер, а два брата (одному 13 лет, второму – 10) и ещё племянник такого же возраста – они составляли бригаду, которая обязана была защищать здание с крыши. Потому что отчасти бросали не бомбы, которые разрушали всё здание, а зажигательные бомбы бросали – они маленькие.
Поэтому чердаки многих домов оснащались бочками с водой (когда ещё была вода у нас в водопроводе), ящиками с песком, щипцами. И вот наши охранники (возрастом не больше 13-14 лет) под руководством моей мамы – она была старший ответственный за это. Как только была тревога – кто с детьми маленькими уходили в бомбоубежище, и мы помогали им добираться с детьми, чтоб не попасть ни под бомбёжку, ни под обстрел. А ребята наши бежали на чердак. И вот в один день такой неприятный – обстрел тогда был, не бомбёжка – и снаряд попал напротив нашего дома, и бедную мою мамулю как сбросило этой взрывной волной – она (мама) летела с чердака по лестнице металлической и получила сотрясение головного мозга, но такого плана, что было это что-то тяжёлое. Может быть, её нужно было лежать там какое-то время, а она на следующий день уже была на посту, несмотря ни на что. Так мы и так никто. У меня отваливались (поскольку я на туфли не заработала) подошвы. Я уже пошла (норму нам дали уже хлеба – 125), мне сказали: «Только на хлеб можешь поменять хоть какую-нибудь обувь». Я пошла, продавали от машин покрышки. Из покрышек люди вырезали подошву.
У нас уже газ был, перед войной проложили в нашей квартире, а у многих ещё были примуса, керосинки, и у керосинок был такой широкий фитиль, и вот этот фитиль набивали гвоздиками набивали на резину и продавали ещё за хлеб. Потому что да у нас то и денег то не было, господи, от куда. Я училась и помню даже в какой-то период определили, что надо было платить за учёбу. Как раз это был восьмой класс что ли. Я говорю: «Мама, ну как же, у нас столько детей, с чего вы можете заплатить за нас за всех? Я уже тогда ухожу со школы, не буду учиться». А брат у меня, который погиб в 42-м году вместе с корабликом, когда они возвращались с задания. И тогда он служил с 38-го, добровольцем ушёл раньше. Но ребята все приходили к нам (вместе служили кто) – наш дом всегда был как открытые двери, всегда были здесь. «Как это так, Маруся не будет учиться»? Они там свои копейки, которые им там давали на курево, или что, сложили, и он привёз. А двадцать рублей надо было заплатить.
Ну и вот привёз, значит, чтобы эти двадцать рублей внести, и чтобы Маруся училась дальше. А потом вот, во время войны, он служил на линкоре, который назывался «Октябрьская революция», а вообще это был немецкий линкор, каким-то образом, до войны ещё, может быть, нашей страной был куплен у Германии, но во всяком случае, это был старый корабль, который назывался «Гангут», а потом наши переименовали в «Октябрьскую революцию». И Октябрьская революция, Аврора, которая стоит сейчас здесь, Марат и Киров – четыре этих корабля защищали вход с моря, это называлось «морские ворота». Все четыре корабля. А до этого, до войны сразу, было присоединение к нам Прибалтийских республик, и мы туда перенесли базу нашу морскую. А война наступила, нужно было быстренько оттуда забирать корабли, и они забрали корабли, чтобы сюда перейти. Многие корабли были потоплены, потому что, конечно, они подвергались обстрелам, и уже сюда пришло меньше значительно.
Но здесь было очень тесно, потому что Ленинград и Кронштадт разделяет маленькое расстояние. А вот брать, например, в зимние, когда можно было по зимнику пройти, не ходили никакие – нечем соединить было с землёй большой, как нас называли. И тогда он приходил по зимнику, как мы называли, пешком. Прибежит, бедненький, даже мороз на улице, а он весь мокрый. На несколько часов придёт, потому что кто-то там из ребят сэкономит – давали такие – брикеты, каша там какая-нибудь, или что, и вот кто может – отдаст. «Снеси родителям», – говорит. Потому что у нас ребят много было, ну и всё время кто-нибудь подсылал нам вот такое. Если уж прислали нам брикет, значит, вместо того чтобы сделать из него кружку хорошую каши, или супа, мама варила большую кастрюльку, чтоб там хоть пахло, запах был, что там была крупа. Но также питались вот эти наши ополченцы, которые, считалось, что так же защищали город, только что не в форме и без оружия. И нам тогда наша комсорг определила, чувствует, что девчонкам тяжело, таким как мы, всё-таки 16-и летние, можно сказать, организм только набирает ещё силу. Она нас устроила чтобы обеспечивать этих ополченцев. И, ну может быть, если хорошо знаешь Ленинград, то вот сейчас в Адмиралтейском районе, там проходит Рижский проспект, а тогда по-другому он назывался. Я, честно говоря, уже начинаю путать, как раньше, и как сейчас что называется – очень много поменялось названий. Там была столовая когда-то и там кормили этих ополченцев.
И они приходили, всегда с собой за сапогом ложка алюминиевая в этом… мы все должны были носить противогазы, а он тяжёлый – этот противогаз – сама идёшь то еле-еле, уже силёнок нет. Мы вынимали противогазы и что-нибудь туда набивали, даже полотенчико, чтобы создать (ощущение), что что-то там есть. Ну а они носили тоже в этих сумках мисочки алюминиевые. Приходили со своими мисочками, со своими ложками. Когда я дежурила, они стучат по столу этими ложками и кричат: «Ма-ру-сень-ка, кушать»! И вот, я беру их плошечки, подхожу к раздаче, и там, может быть, две-три крупинки плавает в этом бульоне, и, конечно, ни о каком мясе речи быть не могло, но им всё-таки давали 250 грамм хлеба, ну, мужчины. Я даже удивлялась, почему они не на фронте? Ну не знаю, может быть, у них другое задание было, может, они обеспечивали. Все же заводы работали, потому что нужно было всё равно поставлять и вооружение, и всё. И люди ползком добирались. Некоторые приходили на завод, а домой уже не приходили – не было сил. Ну и вот эти ополченцы, видимо, так же. Но в такие (подробности) мы уже не вдавались. Мы знали, что это все защитники Ленинграда. Поэтому старались всегда… Один раз, правда, произошёл такой случай, что мне выдали им хлеб (а давали так допустим 250: 150 давали в обед, кормили только значит вот завтрак приходили они 100 грамм, а в обед давали уже 150, с супом), и как-то я сосчитала там, не помню, их было человек 20-25, я сосчитала там, положили мне эти хлеборезы, а когда раздавала, – у меня нет одного кусочка на 150 грамм. Я настолько перепугалась, я так плакала. Думаю, 150, а я-то даже не могу отдать эти 150, потому что я получаю 125.
И вот у них командир такой был, сразу: «Усенька, в чём дело, подожди, не плачь, сейчас уладим». Ну и, действительно, подошёл ко мне мужчина, он успел съесть только довесок. Правда, хлеборезы обязательно делали довесок, показать, что они так честно работают, а на самом деле нажмут на это… И даже умудрялись гири высверливать, чтобы они легче были и туда вставляли что-то, и тогда получается, что, когда ставишь, вес они выдерживают, а на самом деле, вес был меньше. А уж хлеб то был… Там одна была, и запах даже был такой хвои, он даже зелёный был (хлеб), и всегда такой сыроватый. И мужчина вернул мне без довеска, съел довесок только. Ну всё, было ликвидировано такое событие. Ну и так мы вот работали. И потом, поскольку я была Комсомолка, говорили, нужно посылать на торфоразработки – первая, конечно, я. И пошли на торфоразработки. Я помню, не ходили ни трамваи, ничего не ходило в городе, никакого транспорта не было. Папа когда-то заведовал транспортной конторой, но гужевой транспорт, но потом всех лошадей забрали на фронт. Одна кобыла осталась одноглазая, бедненькая, её ранило во время обстрела, и люди разобрали в течении, наверное, не часа, а минут, она ещё шевелилась (кобыла). И даже возчик этот кусочек успел отрезать мяса (конины этой) и принести папе. «Вот, – говорит, – всё, что успел взять». Сразу все всё разобрали.
Голодал народ, очень голодал, тяжело голодал. Но не было ни у кого такого момента (по крайней мере в том окружении, где я находилась), чтобы кто-то сказал, что надо сдать город. Потом уже, даже молодёжь была, мне так было обидно слушать это: «Лучше бы сдали город, мы бы хоть немецкое пивко сейчас попивали». Думаю, дураки, да вас никого бы не было. Они мечтали всех уничтожить русских. У них своя раса была, и они мечтали это пространство, которое занимают русские, всё превратить в своё. Конечно, те зверства, которые они чинили на оккупированной земле не предвещало для русских людей ничего хорошего. Поэтому шли на самые тяжелые испытания, лишь бы только бороться, не давать им полностью овладеть нами. Они уже даже заготовили пригласительные билеты в ресторан Астория. Потом то мы встречали там всякие праздники, ходили. А тогда немцы приготовились уже, что они будут в Астории отмечать свою победу. Но этого не случилось. Но я не присутствовала, когда пленных немцев проводили по городу. В этот момент мы уже всей семьёй участвовали в строительстве и восстановлении городов наших. Сначала мы всю семью собрали, потому что семья… Старшая сестра, у неё трое маленьких детей было. И её уже на работе, где она работала, сказали: «Вера Васильевна, последние уходят по зимнику машины, потому что растает лёд, и тогда уже по зимнику будет не отправить никого, а пока Ладога стоит (наша святая Ладога, наша дорога жизни». Вот, поэтому мы никогда не считали, что мы в кольце, всё-таки Ладога была нашими воротами, Кронштадт давал нам тоже выход какой-то, связь была. И кронштадцы тоже стояли – такой мужественный город, который заслуживал самых высоких оценок. И уже нельзя было добраться даже до лесозаготовок, потому что с севера уже были очень близко к нам (враг). И поэтому наши части как-то нас ещё немножко охраняли со стороны Карелии там, и всё… Ну и Маннергейм, который управлял Финскими войсками, он кончал нашу академию (России). И потом они благодарны до сих пор. Вот мы уже давно с Лениным расправились, где только можно. А они до сих пор чтят Ленина, все его труды, считают его гениальным. Потому что они же были присоединены к России по истории, а он им дал свободу. Сейчас я единственный раз оформила паспорт иностранный, и то на один день – побывала в Финляндии. Ну, действительно, там порядок изумительный, ничего не скажешь. Как только мы за Выбор уехали и шагнули на их землю, то как будто ты в другом государстве, ну, так и было другое государство. Но там не было ничего такого, что бы говорило, как у нас, не успели мы на даче оставить лейку, на пол дня куда-то отлучились, а лейка осталась, уже её сразу кто-то стащил, да. А там стоят на полях трактора. У них каждый хозяин имеет свой мини-трактор. Он (трактор) стоит на поле, и никто его не трогает. Как закончили всё, там оставляют вот эти бочки, пластмассовые, в которых воду держат или что. Очень всё меня это ни то что поразило, а порадовало. Ну, одним словом (переходим опять к блокаде) блокадные дни переживали мы очень. И вот один из моих братьев, которому, я говорила, тринадцать лет было, он, да мы и сами чувствовали, что ему настолько эти 125 грамм хлеба не хватало его организму, ну ребёнок умирает. И он нам, не говоря ни слова никому, сказал только дома: «Я пойду на Финляндский вокзал, может быть, уеду куда-нибудь на лесозаготовки, что там, может быть, кормить будут, или как». А он пришёл на Финляндский вокзал, а там стоит состав военный – привезли с фронта побитое оружие, орудия, сюда, в Ленинград, и наши заводы их чинили и опять на фронт отправляли. И как раз был открыт вагон один, и там были девушки. Их тоже использовали, они все были в солдатской форме, служили на строительно-восстановительных поездах.
Он к ним подошёл и говорит: «Возьмите меня к себе». Они говорят: «А почему это? Что у тебя»? «А у меня все умерли, я остался один, возьмите меня сыном полка». И они взяли. Пошили на него форму, и он с ними два года ездил. Ну, здесь привозили в город старое, а новое (починенное) развозили по фронтам. И когда в Сталинград привезли, мальчишка, конечно, поразился. Сталинград, я считаю, из городов героев, по крайней мере, третий. Первый, это надо отдать должное Бресту, Беларуси, второй – Ленинград с блокадой со своей, а третий – Сталинград. Он не был в кольце блокады, но там сражались они за улицу, за дом. В одном доме могло быть половина Красной армии, половина немецкой армии. Сражались за этаж, за каждую каплю земли Волжской, чтобы немцы имели возможность входить в Сталинград. Ведь тоже старались работать. Поэтому Сталинград – для меня жалко, что переименовали город. Потому что мне, например, часто бывает так, думаю: «Господи, вот у меня написано «За оборону Ленинграда»» я их специально оставила, думаю, придёт кто. Мне сказала Любовь Александровна, что мальчик там будет, но мне легче даже разговаривать с тобой. Ну и меня именно (заботит), что я за оборону Ленинграда (награждена). Так что, когда переименовывал Собчак город, они нас просто обманули. Так поставили вопрос, и город… Мало того, что это же очень затратно. Это нужно было всё поменять все карты, все маршруты. Вот сейчас они так любят переименовывать. Называлась остановка метро «Крестовская», «нет, переименовать в Зенит», и сейчас этот вопрос обсуждают. Это лишние расходы! Ну какая разница? Всё равно место это называется Крестовским островом, и оно остаётся. Что нам сюда принесли суд этот – это другое дело. Потому что он отобрал у нас много площади. И всё, для них нужно было всё. Всё по-новому: и жильё, и площади, и все условия, которыми они привыкли пользоваться в Москве. А мы по скромнее здесь жили, от нас всё увели. В Москве никто не платит за капитальный ремонт, допустим, а мне 95 лет, сколько я живу – столько я плачу за капитальный ремонт. Какой капитальный ремонт?! У меня дом разваливается! У нас уже в стенке настолько кирпичи уже сгнили, что, когда идёт сильный дождь, льётся сюда к нам, на лестницу. Я дождусь когда-нибудь капитального ремонта? Никогда. Я каждый день проживу – и то говорю спасибо, что мне дали ещё день. Я не спешу туда. У меня, я считаю, что мой долг ещё… У меня сейчас два внука взрослых, правнучки три: одной 16 лет, второй 13 лет, 9 лет будет в январе. И самому последнему, вот я сейчас ездила к нему в гости на такси, скучаю по нему очень, такой ребёнок отличный. Сначала так ко мне присматривался, не видел меня два месяца. Я сейчас почти не выхожу, не могу даже в магазин куда-то сходить, заключила с нашими муниципалами до́говор на платной основе. Меня обслуживают: приходит одна медсестра… Но это два раза в неделю она может прийти, а мне нужны лекарства, а она. Я, обычно, беру две морковочки, две там это, а тут – сумочку поставила на весы (там весы есть, хорошо) в магазине Дикси (самый противный магазин), поставила – четыре с половиной килограмма. Думаю: «Ах, как я это донесу то»? А у меня ещё сердце, больше двух – не положено… И вдруг оказалась там женщина, она, оказывается, работает на обслуге. Молодая, сильная такая, всё. Она говорит: «Я вам помогу донести». Донесла, потом разговорилась со мной, и говорит: «А вы хотели бы, чтобы вас так обслуживали? Это вам недорого обойдётся». Я говорю: «Конечно». Потому что я боюсь, сейчас столько много (мошенников). Я одна живу, и думают, что я одинокая. Но нет, у меня дочь, она учительница, от меня живёт на две остановки. Но у неё тоже муж – перенёс операцию, инвалид сейчас удалили почку. 70 лет, а она ещё работает. 40 лет в школе отработала, а пенсия маленькая. Хоть и говорят, что здравоохранение и учителя обеспечены у нас хорошо, на самом деле это не так, я-то чувствую это по своим. А я уже теперь, всё-таки как ветеран, получаю приличную пенсию. И мне хочется каждому помочь. Мне теперь не так много надо (во всех смыслах). У меня одежды, господи, ещё на век хватит. А хочется помочь ребятам. Поэтому, я говорю, я не спешу «туда» (умирать). Я хожу, я всё сама делаю, меня не надо с ложечки кормить. Принесли мне договор, там написано, что сварят мне кашу, с ложечки покормят. Я говорю: «Нет, ребята, это я сама, мне никто такую вкусную кашу не сварит, как я сама». Единственное, что я приобрела всё такое, что мне помогает. Стиральную машинку, электрические всякие приборы. Чтобы это давало мне возможность в какой-то мере сохранять свои силы для того, чтобы продлить своё дальнейшее существование… Шестого нас бомбили, и восьмого была уже объявлена блокада. С восьмого сентября наша блокада длилась. Дорога жизни вот эта, Ладога, которая спасала нас.
Когда переезжаешь Ладогу, там нас встречал посёлок Кобона, где моя старшая сестра с детишками попала… Они, когда переехали на машинах по льду по этому, а когда уезжали, подавали открытые машины грузовые, и даже не закрепляли борта. И предупреждали их, инструкцию давали такую, что, если только с воздуха упала бомба рядом и осталась полынья, которая даёт возможность обойти её, за две минуты машина была под водой со всеми людьми, которые в них находились. И многие так и погибали. Страшно: машины уходят под лёд и светятся только одни фары, долго-долго светят фары, а она полна детишек и взрослых. Шоферам говорили (по инструкции): «Вы не садитесь за руль, стойте на подножке в приоткрытых дверях машины и рулите руками, стоя на подножке, потому что, если вы чувствуете, что, если вы чувствуете, что опасность уже ближе, чем порог, то бросайте машину и прыгайте как можно скорее». И так же людям говорили: «О вещах не думайте, бросайтесь на лёд и ползите, ползите от этой полыньи подальше, потом уже подбирать будут их». И всё-таки она с детишками переехала Ладогу. Хотя на глазах машины уходили под лёд, всё страшно было. А приехали, подали вагоны, а вагоны какие – теплушки, с нарами там, всё. Она детишек в вагон посадила, а сама взяла чайник, пойти хоть воды набрать. Было 23-е февраля, мороз самый, очень тяжёлая была эта зима 41-го, 42-го года. И она взяла этот чайник, пойти набрать воды, а потом стояли печечки, «буржуички» назывались, и в вагоне можно было вскипятить этот чайник. И она попала под обстрел, получила ранение в ногу, ей раздробило сустав на ноге. Ну, её там подняли сразу, палатки там стоят рядом, потому что многие ранения получают. Её положили, говорят: «Надо вас в госпиталь, потому что рана такая, что просто перевязать, или остановить кровь – этого мало, там надо разбирать кости». Она говорит: «Я не могу, несите меня, у меня трое детей в вагоне. Сейчас поезд тронет, куда их повезут? А я буду здесь лежать? Несите меня в вагон». И её принесли в вагон, и поезд уехал. А у неё там, под тёплым одеялом, лежит окровавленная нога. И, когда они проехали сутки, или вторые, у неё образовалась газовая гангрена. И уже её снимали с поезда без сознания. И так, и так дети остались одни. В Кировской области их разбросали по разным детдомам. Хоть бы вместе в один, а так – по разным. А её – в госпиталь. Полгода держали её в госпитале. И вышла она через полгода без ноги, потому что ампутировали после гангрены до колена (только колено оставалось), протезов никаких тогда ещё не было, только два костыля. Вещи все были украдены, ничего ни детям не осталось, ни её. Осталось только одно зимнее пальто, и то пуговицы срезали, и она выписалась с воротником таким тёплым (в летнее время), но булавочки её дали, чтобы пальто застегнуть, и костыли, и «идите, дама, разыскивать своих детей». Что она и сделала. Она сначала устроилась на станции под Кировом. Там узел был такой транспортный, куда привозили, так же как я (до этого) говорила, разбитое оружие. Там только не было госпиталей. Не было их приспособлено, чтобы оставлять лечиться, и поэтому, кто раненый, они шли дальше на восток в так называемых «санитарных поездах», а здесь – только орудия. А мы в это время уже эвакуировались. Мама как раз после получения такой травмы, а тут и брат погиб в 42-м году, она совсем уже не вставала. Ну и врач меня предупредил, что, если вы маму не вывезите сейчас от сюда, она погибнет. Ну а для меня слово «родители» – это было всегда святое. Потом, когда я уже была девушкой, мне иногда задавали такой глупый вопрос: «Кого бы ты выбрала между мной и родителями»? Я говорю: «Тут даже нельзя ставить никакого вопроса. Я всегда бы выбрала родителей». С фронта приходили, помню: «Давай, ты же здесь умрёшь в блокаду. Давай, ты не будешь ползать по траншеям, собирать раненых – будешь сидеть в землянке радисткой там, или что-нибудь ещё». Я говорю: «Я от родителей ни на шаг, никуда». «Ну и что, всем вместе»?.. Я говорю: «Если умрём, то все вместе. Я родителей не оставлю». И так у нас и получилось, что, конечно, в этот момент приехал (он даже не родственник нам был) очень хороший знакомый. Он приехал на один день в город по делам, морской офицер он. Увидел, в каком состоянии моя семья: мама не встаёт уже, папа тоже ослаб очень. И он быстренько оформил нас, как свою семью, своего «денщика» к нам приставил, оставил свою машину и дал ему («денщику») задание: «Проводи их до Ладоги, и через Ладогу перевези, погрузи уже в эти. И после этого можешь поехать к своим (он там где-то недалеко живёт)».
И он уехал на фронт, нам он больше помочь не мог, он даже не знал, ни своей части, ни куда его надо – их же срывали с одного, поставили на другой даже фронт. А этот прохиндей («денщик») всё наоборот сделал. Он привёз нас. «Давайте я получу ваш паёк». Нам дали талончик получить, чтоб хоть до первой станции – где там нас покормят ещё. Он с этими талончиками как уехал, больше и не показался. Так мы и поехали. Но у нас вызов был – в Красноярске были папины братья, давно ещё, с 20-х готов. «Тени исчезают в полдень» – фильм написан по их материалу. Тогда белорусы и украинцы уезжали туда, потому что Сибирь обширная, богатая, а у них здесь не хватало ни земли, ничего. И туда уезжали целыми семьями. Шли на свободные земли, хорошо устраивались, работали, всё было нормально. И мы поехали к одному из братьев туда. Там немножко подняли, и я своё восемнадцатилетние встречала на копании картофеля у одного из богатых человек. Но зато там урожаи были… Картошка вот. Дядя был председателем колхоза – на выставку сельскохозяйственную в Москву посылали (картошку). Клубни были по килограмму. Я вилами как подцеплю их. Мама ходить не могла, она только ползала на мешке. И вот я её подтащу, сама наковыряю кустов, а она уже ползает, складывает в ведро, а я уже из ведра. Ну и 18 мешков ему накопали, и один из мешков он дал уже нам, за то, что мы целый день у него, с утра до вечера, работали. А потом вдруг получили письмо. А так мы бы и не знали ничего, кроме того, что брат утонул, а сестра здесь, в Ленинграде, небо охраняет наше и квартиру, в том числе. Узнаём, что объявилась старшая сестра. Когда она на костылях поехала, разыскала всех детей, старший только плакал: «Мама, возьми меня! Только возьми от сюда»! Плохие были детские дома. Девочка тоже плакала и сестра её забрала оттуда. А младшенький, которому было три с половиной года, тот вообще маму не узнал – он не видел её полгода и вообще уже ничего. Ну сестра уже тогда говорит: «Я из Ленинграда вывезла детей в лучшем состоянии, чем вы сейчас мне их хотите вернуть. Я вернусь к вам через месяц, и чтобы я видела нормального, чистого ребёнка». Они все там завшивели, все в струпьях каких-то, конечно, не купали, ни кусочка мыла никто не видел, ни бани, ничего. И она через месяц всех их собрала у себя. И сама устроилась на работу, с костылями. Очень хорошая была там женщина – главный бухгалтер, она устроила там её сначала счетоводом. Когда я узнала, что у меня сестра в таком состоянии… Мама уже поднялась, начала немножко выходить, решила, что летом что-то посадит, будет своё что-то. А меня определили воспитательницей детского сада. 40 человек у меня было детей, которые звали меня «тётя Маруся». Передо мной такая воспитательница была, что она, кроме песни «Моряк полюбил её, потом бросил, потом топиться пошла», я как услышала всё это… А мы в школе ещё с первоклашками занимались, конечно, начинали со сказки там «Колобок», песни… Я, конечно, по-другому там всё повернула, и ребята ко мне так льнули, что, если я… А я уставала – 40 человек.
Я домой приходила, говорю, мама, я не выдержу, тяжело ей смотреть на них. А матери, действительно, сами работали, был зверо-савхоз, и они сутра приведут (хорошо, что детский садик был) ребёнка сунут, и знают, что чем-то накормят. Но всё-таки как не говорят, но картошка была, может быть хлеба не было, это, конечно, не было. Как откармливали соболей, чернобурок, даже рыжих этих Лисиц, никогда не шла там норка. Я не знаю, то ли по географическому положению, норки не было никогда, а вот эти… И они шли на золото. Отправляли им, сами мы никто не пользовались. Давали иногда их трупики, когда снимали шкуру. И, если оставалось, кому-то доставались кусочки этих вот. Я никогда… Первый раз я узнала, что мама потушила с картошкой там… ну что там бывало, какой кусочек достанется. Я первое что – побежала, «сейчас мне будет плохо, меня будет тошнить». Ничего не стошнило, всё поела, не почувствовала ничего. Так что всё пришлось пережить нам. Но, когда узнала, что сестра без ноги с детьми, я сказала: «Мама, вы уж оставайтесь здесь, я одна, но поеду к сестре». Ну ещё брат младший был. И она говорит: «Ну что ты одна поедешь? Тогда уж мы все поедем». Приехали, уже был декабрь 43-го года. И нам давали уже задания по восстановлению. Фронт уже отходил и уже запахло тем, что перевес уже Красной армии, что уже готовимся к окончанию войны. Причём войны победной. И настроение у всех было другое. И нас перебросили из Кирова в Брянск. На теплушках привезли в Брянск, и говорят сразу: «Освобождайте теплушки». Поле. Стоит один скелет дома, без окон, без дверей, без пола, без всего. Потому что бедный Брянск, он так пострадал. Не даром потом были фильмы «Вызываем огонь на себя» – это же всё про Брянск. И они не могли оставить нам ни одного дома. Там была такая аллея громадная, всё уничтожили, весь этот узел. И мы приехали, у меня маленький (самая младшая была) ребёнок, она у нас родилась там. Сегодня она мне звонила, узнать, как состояние мой. Ей сейчас 75, она на 20 лет меня моложе. И она говорит: «Почему я родилась? У меня стоит «где родилась» (в документах) – у всех указан чуть ли не номер родильного дома – а у меня стоит «Брянск 2»». Я говорю: «Усенька, ты родилась в брянском лесу, ты наш ребёнок войны». Сейчас они собираются поднять детей, которые родились во время войны. Но рождались же те, которые в семьях рождались: муж приехал там раненый, тогда рождался у них ребёнок. А это был ребёнок уже без отца – отец уже не вернулся, и только мать оставалась. И её платали сначала как матери-одиночке – 5 рублей, а потом говорят: «Вы получаете незаконно, потому что нет там какой-то бумажки».
А, на самом деле, в 37 году её мужа перебросили служить из Ленинграда на Дальний Восток, и он служил в береговой обороне, а ему приписали, что он Японцам передавал сведения какие-то (Японский шпион) – надо было тогда почистить Дальний Восток, и его расстреляли. И она приехала к нам с тремя маленькими детьми. Но у нас семья была (по моим словам ты, наверно, понимаешь) такая, что мы жили все за одного.